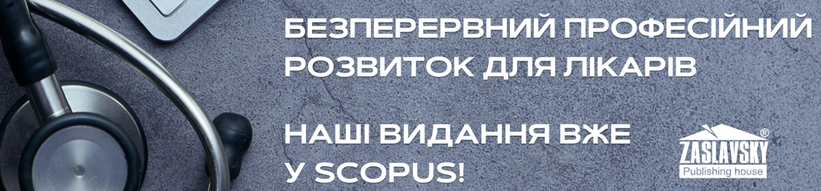Газета «Новости медицины и фармации» 18 (514) 2014
Вернуться к номеру
Забытый день
Авторы: Ион Деген - д.м.н., профессор
Разделы: От первого лица
Версия для печати
Статья опубликована на с. 28-29 (Мир)
Это же надо! Забыть, какой сегодня день! Нет, какой день недели, я помнил. Не забыл даже, что сегодня ровно неделя моей работы в больнице. Неделю убеждал всех, кого надо убедить, что мой врачебный диплом не куплен, а получен на законных основаниях. И эти законные основания позволяют мне получить диплом израильского специалиста. Диплом израильского врача я уже получил. Специалист, мумхе. Это не просто определение профессии. Это звание, положение на врачебной лестнице, как, например, в Советском Союзе ортопед высшей категории, кандидат или доктор медицинских наук.
Всего семь утра, а солнце жарило немилосердно. По этому солнцепеку мне предстояло прошагать пять километров от моего дома до больницы, в которой сегодня впервые после приезда в Израиль я оперирую. Шутка ли! Даже подумывал, не поехать ли автобусом в честь этого праздника. Но моих капиталов на такую роскошь не хватало.
Перечитал последнюю фразу и улыбнулся — «от своего дома». Не было у меня еще своего дома. И своего угла тоже не было. Друзья, пока я буду работать в этой больнице, сняли на три месяца для меня комнату у семьи, на время уехавшей за границу. В квартире не заперта лишь одна комната, ванная и туалет. А что еще нужно мне одному? Только переночевать. Жена живет в центре абсорбции, под Иерусалимом. Сын — в аспирантском общежитии института Вайцмана в Реховоте.
Квартира располагалась на последнем этаже четырехэтажного дома. Лифта в доме нет. Однажды, когда мы с моим другом поднялись ко мне, Мотя, слегка задыхаясь, мрачно произнес: «Это же надо умудриться жить на пятом этаже четырехэтажного дома». Но какое все это имело значение? Ведь я сегодня оперирую! В Израиле!
Дорога не обошлась без горчинки. То ли солнце мне ее подкинуло, то ли инвалидность, затрудняющая такие моционы. Хорошо хоть палка моя не погружалась в асфальт, как при такой температуре в Киеве и в Москве.
Ассистентом на операцию заведующий отделением профессор Комфорти назначил Хаима, лучшего в отделении ортопеда. За неделю у меня уже была возможность убедиться в том, что Хаим сильнее заместителя заведующего. Профессор мог ведь назначить рядового ординатора. Значит, несмотря на братское отношение ко мне, у босса имелись какие-то сомнения? Обидно. А впрочем, вероятно, и я поступил бы так же. Босс знаком только с моими опубликованными работами. Он же не видел, как я оперирую. Мало ли что может случиться во время операции. А вся ответственность на нем.
Я взмок, нет сил. Больше никого на улице. Пешеходов почти не видно. Одни автомобили. Но я обязан дойти. Всплыли в памяти подобные состояния, испытанные в прошлом. От станции Натанеби до грузинского села Шрома тринадцать километров. Нога после ранения все еще не в норме. Дошел! А через несколько месяцев, когда мы отступали от Армавира, казалось, что на следующем километре умру от жажды. Но еще километров через пять или шесть, а может семь, уснул. Сколько километров проспал, не знаю. А знали ли поддерживавшие меня? Правда, тогда мне было семнадцать лет. Сейчас в три раза больше. Даже с хвостиком. Но ведь всего два месяца назад, когда мы поднимались на Моссаду, Шмуэль, наш руководитель, замечательный преподаватель иврита в ульпане, велел мне воспользоваться лифтом. Он не сомневался в том, что я не смогу подняться по змеиной тропе. А я поднялся!
Чего это стоило, другое дело. Спускаться было куда труднее. Но в кибуце Эйнгеди я, не задумываясь, поднялся к водопаду. В те минуты еще не догадывался, что и этот рекорд предстоит побить. Примерно спустя месяц пришел после рабочего дня домой. На исходе сил поднялся на свою верхотуру. Полез в карман за ключом, а ключа нет. Вероятно, уронил, переодеваясь в операционном блоке. Не стану описывать, как я добрался до больницы. Ключ валялся в углу моего шкафа. Конечно, разумно было прикорнуть до утра в ординаторской. Но пошел домой. А ведь я уже знал, какая разница между погодой на берегу Мертвого моря и в Кфар Саве. Там высокая температура переносится легче, так как воздух сухой, а здесь невероятная влажность.
Мокрый, словно вынырнул из воды, приплелся в больницу. Позавтракал в столовой для персонала. В операционном блоке переоделся, в предоперационной помыл руки и вошел в операционную. В ней хозяйничал Яков, операционный брат. Много лет работал с хорошими операционными сестрами. Но даже лучшую из них нельзя сравнить с Яковом. Виртуоз! Стал перед ним, просительно сложив ладони лодочкой, ожидая шарик со спиртом. Захотелось, чтобы спирта в этой марле оказалось больше, чем обычно, чем на тысячах операций до этого дня. Яков с недоумением посмотрел на меня:
— Чего хочешь?
— Спирт, алкоголь.
— Педаль, — сказал Яков, небрежно махнув ногой в сторону предоперационной, из которой я только что появился. Ничего не понимая, даже считая, что «педаль» на иврите несет какой-то неизвестный мне смысл, вернулся в предоперационную. Мывший руки ординатор, видя мою растерянность, спросил, что я ищу. «Спирт, алкоголь», — ответил я. Он тоже сказал «педаль» и тоже махнул ногой. В сторону раковины. Под ней действительно находилась педаль. Еще ничего не понимая, я нажал стопой на эту педаль. Из тонкого краника над раковиной потекла жидкость. Понюхал. Спирт! Лизнул. Вы не поверите — спирт! Не отпускал педали, спирт продолжал течь. Тут на меня напал неудержимый хохот. Находившиеся в блоке начали опасаться за рассудок нового врача. Пришлось им всем объяснить, что произошло бы в моем киевском отделении, находись в операционной такая педаль.
И потом, во время операции, на мгновения в моем сознании возникали киевские операционные. Впервые в жизни я шил атравматической иглой, о которой читал в «Медицинской газете» еще в пятидесятых годах, а познакомился два или три дня назад. Если бы восемнадцатого мая 1959 года, когда впервые в медицинской практике пришивал ампутированное фрезой предплечье, у меня была атравматическая игла, я бы, вероятно, попытался ею сшить артерию и нервы. И не родился бы тогда метод, благодаря которому операция оказалась успешной. Рука прижилась. Определенно, подумал я об этом не в тот день.
Все шло как обычно, хотя ежесекундно не переставал восторгаться инструментами. Но тут вдруг неожиданно возникла неловкость. Хаим поднял голову, подозрительно посмотрел на меня и спросил:
— Ты из Советского Союза?
— Да.
— Ты говорил, что не знаешь английского.
— Не знаю.
— Яков, на каком языке он рассердился, когда вместо кохера ты дал ему пеан?
Мне пришлось объяснить, что по-английски я читаю. По-видимому, выскочило автоматически, так как была потребность, а на иврите не знал, как сказать. Второй диалог был более продолжительным и даже резковатым. В какой-то момент Хаиму понравился мой прием, и он ехидно спросил:
— Так ты из Советского Союза?
— Естественно.
— И в Советском Союзе так работают хирурги?
— Именно так работают. Ты суди не по Володе. Он учился в глубокой провинции, да и то, вероятно, был отстающим студентом.
Володя Эткинд, окончивший Ивано-Франковский медицинский институт, за месяц до меня начал работать в отделении. Я нередко краснел, когда он демонстрировал свое незнание или, еще хуже, невежество. А вот мои слова об «отстающем студенте» оказались лишними. Испортили эффект. Примерно спустя три недели я узнал, что в Израиле нет такого понятия — отстающий студент-медик.
— Естественно, так работают. Кстати, Хаим, ты знаешь, кто такой Лоренц?
— Ты что, смеешься надо мной? Даже Эли тебе объяснит, что такое Лоренц-один и Лоренц-два (Эли окончил университет в Италии, в Болонье — самый слабый ортопед в отделении).
— Значит, тебе известно, что венский врач Лоренц был фактически отцом европейской, следовательно, мировой ортопедии? А среди учеников Лоренца лучшей была Анна Фрумина, ставшая выдающимся профессором-ортопедом. А у профессора Фруминой среди многих учеников был любимый ученик, Ион Деген. Ты называешь его Даган. Выходит, по ортопедической линии я внук Лоренца. Вопросы еще будут?
Вопросов больше не было, если не считать вопросов во время очень приятной беседы, в закусочной операционного блока, когда мы пили кофе. Вот тогда впервые на своем иврите рассказал я ему кое-что о советской медицине. А он — кое-что об израильской. И не только о медицине. Тогда я узнал, почему Хаим, блестящий ортопед, да еще член руководства профсоюза израильских врачей, не занял должность заместителя Комфорти. Тогда я узнал, что профсоюз врачей не имеет ничего общего с профсоюзом Израиля, с «социалистической мафией» — как Хаим назвал Гистатруд, профсоюз.
После смерти Комфорти более достойного, лучшего заведующего отделением, чем Хаим, и быть не могло. Но социалистическое руководство, а больница была собственностью профсоюза Израиля, избрало заведующим врача, который в подметки Хаиму не годился.
Попивая кофе между операциями, я вспоминал, как киевские операционные сестры просили нас не размываться, потому что впереди еще несколько операций, а халатов на смену нет. И стояли хирурги в окровавленных до невозможности халатах. В стерильных зажимах держали папиросы или сигареты, чтобы хоть на мгновенье прийти в себя. Халаты… А две простыни на операцию, и хоть тресни — больше не будет. А тут я прямо обалдел, когда увидел, как вместо металлического подколенника под ногу подложили стопку простыней, двадцать штук! Понятно, простыни не пережимают сосудов, но это же просто разврат! А инструменты! С большинством был я знаком по рекламе в англо–американском журнале, но все равно сомневался в осуществимости такого чуда. А тут, оказывается, это не чудо, а реальность, на которую врачи даже не обращают внимания, не замирают от восторга, как я.
Вот о чем я думал в конце того рабочего дня, который по собственному моему желанию кончался на четыре часа позже, чем у остальных врачей. Куда мне было спешить? Да и вообще праздник для меня закончился. Говорю же, что забыл, какой это был день. Сидел в пустой ординаторской и зубрил медицинские термины на иврите, когда зазвонил телефон. Из пропускника сообщили, что меня разыскивает какой–то американец.
Спустился. Интеллигентного вида мужчина, несколько старше меня. Представился, улыбаясь и вручив шикарную визитную карточку. Дэйвид Даймондберг. В визитной карточке успел прочитать только название известнейшей фирмы-гиганта. Русский язык визитера был каким-то античным, слишком правильным. Я сразу подумал о гимназии или реальном училище. После выяснилось, что не ошибся. Почти незаметный иностранный акцент.
— Дорогой доктор Деген, я был бы вам премного обязан, если бы вы соблаговолили принять приглашение пообедать со мной. За обедом мы могли бы обсудить все вопросы, с которыми я прилетел лично к вам из Филадельфии.
Часа три назад я уже пообедал в больничной столовке для персонала, но согласиться меня заставило не одно любопытство. Мы вышли из приемного покоя. В нескольких метрах от входа стоял сверкающий черным лаком автомобиль. Марку не заметил и не подумал о том, что автомобиль арендован. Такая же странность, как и то, что забыл, какой сегодня день. Мечтал об автомобиле и внимательно присматривался к ним, огорчаясь, что среди сотни марок так трудно выбрать предпочтительную.
Пока мистер Даймондберг вез меня из Кфар Савы в Тель-Авив, я все же вспомнил о марках автомобилей. В Киеве вместо положенного мне, инвалиду войны, «запорожца» я получил инвалидную мотоколяску. Пошел с жалобой к министру социального обеспечения. Ради справедливости следует заметить, что министр, дважды Герой Советского Союза, знаменитый партизан, принял меня немедленно. В начале разговора был доброжелательным. Но потом:
— Доктор Деген, понимаете, мы и мотоколяску не должны были вам дать. У вас же осколок в мозгу. Как вы можете водить автомобиль?
— А стоять за операционным столом осколок мне не мешает?
— Сожалею, но ничего не могу сделать. Знаю о ваших заслугах, не только нынешних, а военных, но ничего не могу сделать.
— Спасибо, товарищ Федоров, сейчас вы очень помогли мне, очень много добавили к моему решению ездить на «мерседесе» или «вольво», — с этими словами я вышел из кабинета.
Могу сказать, что действительно выбрал «вольво». Это был мой инвалидный автомобиль, который мне бесплатно меняли каждые тридцать шесть, а последние два «вольво» — каждые сорок два месяца. Всего их было девять. Потом полюбил «хонду-аккорд». Окончился и ее срок. Проехала аж восемь тысяч километров.
Но хватит побочных ассоциаций. Мы зашли в гостиницу «Хилтон», в которой остановился мистер Даймондберг.
— Дорогой доктор Деген, — сказал мистер Даймондберг, как только мы сели за столик в ресторане. — Я посмею нарушить ритуал и закажу соответствующее и для вас, так как сегодня ваш праздник.
Откуда он знает, какой это день для меня? — подумал я. Он заметил мое недоумение и сказал:
— Мы, американцы отмечаем День Победы восьмого мая. Советский Союз празднует День Победы девятого мая. Сегодня ваш праздник.
— Елки зеленые! Как я мог забыть, что сегодня девятое мая?
Мы выпили водку, закусив семгой. И начался обильный и довольно изысканный обед.
— Итак, дорогой доктор, я представляю одну из величайших компаний. Имя у нее европейское, но компания американская. Есть у нее предприятия в Европе, в Азии и даже в Южной Америке. Руководство компании послало меня за вами. Вы нужны нам как консультант. Пожалуйста, не перебивайте. Прежде всего выслушайте меня. Давайте по порядку. Иврита, в отличие от английского, вы не знаете.
— Я и английского не знаю.
Мистер Даймондберг улыбнулся:
— У компании есть сведения о том, что вы вполне приемлемо беседовали по-английски с послом Нидерландов в Москве. Пожалуйста, не перебивайте. В Израиле вы уже пять с половиной месяцев. Жилища у вас нет. Вы в Кфар Саве, ваша супруга в Мавассерет Ционе, сын в Реховоте. А в Филадельфии вам приготовлен вполне приличный дом, который, безусловно, при вашем положении вы смените на более роскошный. Ваша заработная плата в Израиле может рассмешить любого американского врача. У нас в компании вы будете получать всего лишь четыре тысячи долларов в месяц. Как говорят у вас, на семечки. Это примерно за полчаса работы в неделю. Остальное — ваша практика ортопеда, которая обеспечивает ваш эньюэл инком триста-четыреста тысяч долларов. Я не ошибся. Это эньюэл инком, годичный доход ортопеда вашего уровня. Никаких проблем с практикой не будет, так как у вас уже есть лайсенс американского врача.
— Кстати, каким образом? Этого не понимают мои израильские коллеги, да и я начал не понимать. В Америке я не был, никаких экзаменов нигде не сдавал.
— Дорогой доктор, наша компания вполне состоятельна. Она может позволить себе обеспечивать грантами университеты и исследовательские институты. А у вас, кажется, есть пословица: «Кто платит деньги, тот заказывает музыку».
— Выходит, в Америке, как в Советском Союзе, можно купить диплом.
— Дорогой доктор, и еще у вас, кажется, говорят, что детей всюду делают одним и тем же способом. Ваши научные работы известны. А главное, известна ваша практическая деятельность. Кстати, привет вам от ваших благодарных пациентов, — он назвал фамилии моих киевских приятелей. — Они довольно близкие мои родственники. Так что никакого обмана не было. Были только незначительные бюрократические нарушения, которыми, по заявлению выдающихся американских ортопедов, можно было пренебречь. Так что не переживайте. Никто вас ни в чем не сможет упрекнуть.
— Дорогой мистер Даймондберг, в Советском Союзе наша семья была вполне обеспечена. По советским масштабам. Но я, еврей, понял, что мое место только в еврейской стране. Зачем же мне менять твердо принятое решение?
Было еще много разговоров, как и вина. Коньяк пил уже только я, так как мистер Даймондберг вспомнил, что он должен отвезти меня в Кфар Саву.
Больше с мистером Даймондбергом мы не встречались, и я не смог упрекнуть его за то, что он ни словом не обмолвился, как в грузинском ресторане в Иерусалиме он уже отпраздновал свой День Победы, пригласив мою жену. Кстати, не знаю, воевал ли он. Жаль, не спросил. В телефонном разговоре мистер уверил меня в том, что жену ему удалось бы убедить в целесообразности нашего переезда в Америку. Жена уверила меня в противоположном.
Спустя три с небольшим года, в Лос-Анджелесе, мы убедились, что у меня действительно есть лайсенс американского врача. Правда, бюрократические проблемы все же возникли. Следовало выяснить, распространяется ли действие моего лайсенса, действительного во всей Америке, на штат Калифорнию, в котором вроде бы свои критерии? Меня это нисколько не волновало, так как я категорически отказался прооперировать здесь тазобедренный сустав весьма забавному пациенту восьмидесяти одного года.
Мой старый приятель и коллега объяснил мне, что больница, разумеется, не могла бы разрешить мне, не имеющему медицинской страховки, оперировать здесь, но он любезно предложил директору использовать его страховку. И директор с радостью согласился на это нарушение, так как не мог устоять перед настойчивой просьбой пациента. Коллега назвал меня идиотом, так как я отказался, по его словам, положить в карман три тысячи долларов. Возразил ему, объяснив, что я не оперный певец, который отпел свою партию и может уехать в другую оперу. Я врач. Я обязан после операции выходить своего пациента.
Общение с этим пациентом и его женой оказалось для моей жены и для меня просто подарком. Несмотря на возраст и серьезную ортопедическую патологию, он был довольно бодрым и еще востребованным в Голливуде, где долгие годы работал на трех самых крупных киностудиях. Мы сидели в салоне, который мог быть создан только выдающимся дизайнером. Попивая виски, он, глядя на меня, спрашивал:
— Вы Мей Уэст знали? Так вот, она была у меня в постели. Вы Марлен Дитрих знали? Так она была у меня в постели. Вы Дину Дурбин знали? Так она была у меня в постели. Вы Джин Харлоу знали? Так вот, она была у меня в постели. Вы Мерилин Монро знали? Так она тоже была у меня в постели.
Супруга, намного моложе своего красивого поджарого старика, покуривая сигарету, иронической улыбкой сопровождая каждый вопрос, помолчав, сказала:
— А теперь он у меня в постели. И спросите его, где все его деньги?
Оба они вполне прилично говорили по-русски. Откуда его русский язык, не помню. Возможно, и не знал. А она, внешне симпатичная, примерно пятидесятилетняя женщина, родилась в Харбине в еврейской семье беженцев из России. В 1945 году шестнадцатилетней девочкой сбежала из Харбина в Австралию, где сделала свои первые восемь миллионов американских долларов. В конце пятидесятых годов с большим капиталом эмигрировала в Америку.
Каким капиталом она владела тогда, ни моя жена, ни я не узнали. Надо полагать, немалым, если судить по дворцу в предгорье недалеко от Лос-Анджелеса. А рядом с дворцом — убежище. В ту пору Америка еще не избавилась от паники по поводу неизбежной атомной войны. В горе было вырыто убежище с невероятными продовольственными и прочими запасами.
В Лос-Анджелесе хватало ортопедов, которые могли отлично прооперировать тазобедренный сустав. Но старый голливудец почему-то выбрал меня. Привыкнув обустраивать свою постель, он решил, что и это ему доступно. Знакомые врачи утверждали, что для этой супружеской пары нет ничего невозможного. При желании могут Белый дом переместить в Калифорнию. Но ведь и у меня, хоть и не миллионера, были убеждения.
Однако вернемся к окончанию дня девятого мая 1978 года. Мистер Даймондберг привез меня не в больницу, а прямо к моему жилищу. Был двенадцатый час ночи. Я поднялся к себе «на пятый этаж четырехэтажного дома». Под дверь был подсунут клочок бумаги. Мотиным четким неврачебным бисером было написано: «С Днем Победы! Зюня, Миша, Мотя». Мои самые близкие друзья. С Зюней учился в одной студенческой группе, бывший младший лейтенант, командир танка Захар Коган. С Мишей ходили в один детский сад, а после войны встретились на одном курсе в институте — младший сержант, пехотинец Михаил Волошин. Мотя, однокурсник, Мордехай Тверской, капитан, командир стрелкового батальона. Дорогие друзья. Нет уже их. И вообще нет тех воинов, с которыми я праздновал День Победы.
А сейчас жену огорчили стихи, выхлестнутые этими воспоминаниями. Куда там! Больше, чем огорчили. Не размером, не рифмами. Содержанием. Я даже собирался уничтожить их. А потом подумал: почему не завершить ими рассказ о забытом дне?
Дни Победы
Еще в той гимнастерке простреленной,
Еще в каждом рубце ныли нервы.
Но уже к мирной жизни пристрелянный,
День Победы отпраздновал первый.
День Победы как праздник непризнанный
Мы отметили единолично.
Вождь решил так, и значит,
пожизненным,
Что решил он, считали привычно.
Мы студенты, солдаты недавние,
На пути к невоенному миру.
Мера водки по-честному равная.
Хлеб, селедка, картошка в мундире.
Ежегодно упрямо старались мы,
Чтобы закусь была фронтовая.
Ветераны, в тот день собирались мы,
Тосты провозглашали, вставая.
Но начало без тоста, печальное.
Как шаги по кровавому следу.
Эта рюмка была поминальная,
За друзей, не узнавших Победу.
Водка, хлеб — черный хлеб, не для пира,
И селедка с картошкой в мундире.
Из страны, отторгавшей без жалости,
Уводимы еврейской судьбою,
В багаже вместе с нужною малостью
Увезли День Победы с собою.
За столом становилось все меньше нас,
Пустота между нами все шире.
И количество водки уменьшилось.
Хлеб, селедка, картошка в мундире.
Сиротливо в день этот
торжественный.
А ведь был выпивон какой славный!
Без конца поступают приветствия.
Я последним в застолье оставлен.
Черный хлеб, словно выпечка сдобная.
Воевавший один я в квартире.
Водка. Рюмка, наперстку подобная.
Хлеб, селедка, картошка в мундире.
Умолкают фанфары. А лира?
Память. Атаки. Потери. Беды.
Водка.
Селедка.
Картошка в мундире.
Все.
Праздник Победы.
5.09.2014 г.