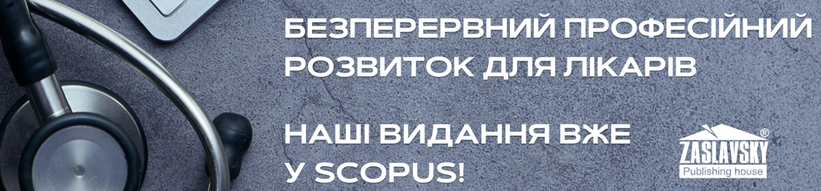Газета «Новости медицины и фармации» №10 (728), 2020
Вернуться к номеру
Однокашники
Авторы: Ион Деген
Разделы: От первого лица
Версия для печати
Основательность сапера
С моим однокурсником Рэмом Тымкиным у меня много точек соприкосновения. Начать с того, что в последнем наступлении, во время которого я был тяжело ранен, саперная рота старшего лейтенанта Тымкина взаимодействовала с нашей танковой бригадой. Не исключено, что мы встречали друг друга в бою. Во всяком случае, мы вспоминаем одни и те же эпизоды.
В Рэме меня всегда поражала и продолжает поражать невероятная несовместимость олимпийского спокойствия, даже флегматичности, с мгновенной взрывной реакцией. Чаще всего такая реакция вызывает одобрительный смех окружающих. Лейтенант Тымкин был, пожалуй, единственным, кто внешне не проявил эмоций, когда при вручении гвардейского знамени их отдельному саперному батальону произошло экстраординарное событие.
Естественно, офицеры здорово набрались по поводу присвоения батальону звания гвардейского. К встрече члена военного совета и других генералов батальон построили на плацу в каре. Непривычные к строю саперы подравнялись, как зерна кукурузы в початке. Прибывшее высокое начальство поместило себя в центре. Развернули бархатное гвардейское знамя. Командир батальона зычно скомандовал: «Смирна-а! Равнение на знамя!» Строевым шагом он направился к центру квадрата, занятому высоким начальством. Но строевой шаг у него получился с некоторым заиканием. Заносило комбата. К чести его надо отметить, что он все-таки преодолел полтора десятка этих невероятно мучительных метров. Согласно ритуалу, комбат встал на одно колено, взял угол знамени и наклонился, чтобы поцеловать его. И тут комбата повело. Не только святыню, но даже высокопоставленные сапоги он обрызгал невероятным количеством свиной тушенки и другой закуси, плавающей в желудочном соке и водке. Генералы задохнулись от гнева и отвращения. Полифония угроз содержала полный набор — от обычного мата до тирад, превосходящих по запаху рвотные массы.
Ситуацию усугубляло то, что батальон, несмотря на ужас положения, не мог подавить предательского смеха. Только лейтенант Тымкин оставался невозмутимым. Рэм объяснил свою выдержку количеством водки, принятой до события.
Надо заметить, при относительно невысоком росте и небольшом в ту пору весе Рэм был способен вместить в себя солидное количество алкоголя. Я это могу засвидетельствовать под присягой.
После окончания войны их батальон расформировали. Старший лейтенант Тымкин и еще два лейтенанта были направлены в другое подразделение. Гостеприимные офицеры организовали выпивон в честь новоприбывших. Капитан, сидевший слева от Рэма, с удивлением произнес: «Ты посмотри! Еврей, а как пьет!» Капитан едва успел закончить фразу. Рэм врезал ему по физиономии и спокойно спросил: «А как еврей бьет?»
Оба Роминых лейтенанта тут же вскочили. На всякий случай. Но все обошлось. Капитан пересел подальше от этого еврея, умеющего пить, как бить, и бить, как пить.
Познакомились мы после поступления в медицинский институт.
Абитуриент Рэм Тымкин пришел по какому-то поводу в деканат. В коридоре на него наткнулся аспирант кафедры патологической физиологии. Молодой, способный. Во время войны он учился в институте. На нас — серую солдатскую массу — взирал с высоты своей образованности. Через два года он, уже ассистент, вел нашу группу. А тогда он пальцем указал Рэму на скамейку и приказал:
— Эй, студент, отнесите в аудиторию.
Рэм взглянул на аспиранта печальными выпуклыми глазами и меланхолично ответил:
— Пошел ты на ...
Аспирант, словно подброшенный катапультой, развернулся в полете и куда-то унесся.
Через несколько минут Рэма вызвали к заместителю декана. Тот посмотрел на Рэма сквозь толстые стекла очков и спросил:
— Товарищ Тымкин, что вы сказали аспиранту ...?
— Пошел ты на ..., — печально ответил Рэм, не глядя на аспиранта. Тот сидел на стуле сбоку стола в хищном ожидании реванша.
Заместитель декана смущенно заерзал в кресле.
— Товарищ Тымкин, отдаете ли вы себе отчет в своих поступках?
— За четыре года войны я привык отдавать отчет в своих поступках себе и своему начальству. Я командовал саперной ротой. Вы знаете, что значит быть на войне сапером? Это значит каждую секунду отдавать себе отчет. В моих руках была жизнь сотни с лишним солдат. Каждый был человеком, личностью, хотя и среди них попадались такие вот говнюки, — Рэм мотнул головой в сторону аспиранта. — Говнюки стояли передо мной по стойке смирно и не смели дышать. А он позволяет себе сказать: «Эй, студент, отнесите в аудиторию». Обратись он ко мне по-человечески, я бы не только скамейку отнес, я бы и его усадил на эту скамейку.
— Товарищ Тымкин, видите ли... понимаете, вы будущий врач, так сказать, культуртрегер. Медицинский институт — не саперная рота. Пожалуйста, постарайтесь пользоваться только нормативной лексикой.
Спустя много лет бывший заместитель декана сумел убедиться в том, что товарищ Тымкин отдает себе отчет в своих поступках. Именно к доктору Тымкину, лучшему в городе торакальному хирургу, он обратился, когда ему понадобилась сложная операция на легком.
Ох, как непросто стать настоящим врачом. Учиться надо систематически и упорно. Настойчиво, с последовательностью сапера, начиная с первого курса Рэм накапливал знания. Забавный случай в какой-то мере может проиллюстрировать основательность его знаний.
Как-то по пути в институт на лекцию по марксизму-ленинизму он встретил своего старого друга. Пришлось пропустить первую пару, преступно предпочтя гениальнейшему учению солидную выпивку в забегаловке. На вторую пару — практическое занятие по органической химии — он приплелся в таком виде, что студентам пришлось скрыть его в углу под грудой пальто и шинелей.
Доцент задал довольно сложный вопрос, вызывал одного студента за другим. Они гадали, путались, но, увы, никто не мог ответить правильно. Вдруг из-под груды пальто и шинелей прозвучал правильный ответ, излагаемый слегка заплетающимся языком. Доцент удовлетворено заключил:
— Наконец-то я услышал трезвый ответ.
Группа затряслась от хохота.
До самого моего отъезда в Израиль в 1977 году не прерывалась наша с Рэмом дружба. Мы жили в разных городах, но пользовались всякой оказией для встречи, которая всегда вливала в меня толику эликсира молодости.
Однажды в нашем доме я познакомил двух бывших офицеров-саперов — Виктора Некрасова и Рэма Тымкина. В тот вечер Виктор с необыкновенным мастерством прочитал два своих рассказа — «Король в Нью-Йорке» и «Ограбление века». Рэм слушал, затаив дыхание. На обычно слегка меланхоличном лице сиял нескрываемый восторг. После ухода Некрасова Рэм сказал:
— Ты сделал мне самый дорогой подарок. Большего в своей жизни я не получал.
На следующий день позвонил Некрасов:
— Отличный парень твой Рэм. Я почувствовал к нему симпатию в тот самый момент, когда взглянул на него и ощутил его рукопожатие.
В очередной раз мы встретились с Рэмом в Сиэтле (штат Вашингтон) через несколько дней после землетрясения. Жена Рэма с удивлением рассказывала, как он вел себя, когда, по ее словам, земля разверзлась. В тот момент он читал, лежа на диване в квартире на пятнадцатом этаже. Люстра сумасшедше раскачивалась от стены до стены. Из буфета со звоном посыпались хрустальные бокалы и рюмки. Рэм продолжал лежать, не меняя позы. Жена, ухватившись за стол, чтобы удержать равновесие, испуганно произнесла:
— Чего ты лежишь? Происходит нечто ужасное!
— Успокойся, Ниночка. В моей жизни происходило куда более ужасное.
Рэм Тымкин действительно видел более ужасное. Он был курсантом Киевского артиллерийского училища, когда началась война. Их бросили на защиту Москвы. Там, в боях, не идущих ни в какое сравнение с сиэтловским землетрясением, Рэма Тымкина впервые ранило. Потом было еще много боев и еще несколько ранений. И передряги, выпавшие на долю старшего лейтенанта Тымкина, когда он командовал ротой саперов.
Меня не удивил рассказ Нины о том, как Рэм отреагировал на землетрясение. За пятьдесят пять лет нашего знакомства я никогда не видел Рэма выходящим из берегов. Даже в моменты, когда он, безусловно, был разъярен, с его лица не сходило выражение меланхолического спокойствия и снисходительная, всепрощающая улыбка.
С Рэмом и моим свояком мы закончили ланч в китайском ресторане. Свояк предложил Рэму зубочистку. Рэм мгновенно отреагировал:
— Для этого зубы надо иметь.
Вероятно, гироскопом, всегда удерживающим Рэма в устойчивом состоянии, является потрясающе развитое чувство юмора. Незаурядный торакальный хирург сейчас уже пенсионер. Я не видел, как он оперировал. Знаю только из восторженных рассказов коллег и пациентов. В каждом рассказе непременно какая-нибудь деталь о чувстве юмора доктора Тымкина в самых экстремальных обстоятельствах. О юморе, который врачует.
2006 г.
Трофейная команда
Среди трехсот двух студентов нашего курса Алексей Гурин выделялся не только солидной внешностью и летами. Возрастной разброс у нас был значительным — от семнадцати до пятидесяти с лишним лет. И габариты студентов варьировали. Тощие астеники, почти дистрофики (время-то было голодное, послевоенное), и голиафы, выталкивавшие двух пассажиров с передней площадки трамвая, когда втискивались в заднюю дверь.
Алеша Гурин выделялся основательной респектабельностью. Кого можно было поставить рядом с ним? Разве что старосту курса Мишу Скубака — высокого и вальяжного красивого брюнета, поражавшего раскачивающейся походкой моряка. Но Скубак не был моряком. Фуражка летчика. Высокая тулья. Голубой околыш. Кокарда. На отлично скроенном кителе — орденские планки. Набор такой, что никто из нас, фронтовиков, даже сравниться с ним не мог. Шутка ли? Орден Ленина, четыре ордена Красного Знамени и еще что-то. Известное дело — летчик. Кого еще так награждали? Была у Миши Скубака одна вещь, вызывавшая у меня белую зависть. Скубак владел пишущей машинкой. Не простой — с двухцветной лентой. Можно было печатать и черными, и красными буквами.
Правда, спустя какое-то время выяснилось, что Скубак не только не летчик, он даже близко к самолету не подходил. Здоровый лоб всю войну умудрился прокантоваться писарем в штабе авиационной части. Пишущая машинка была его оружием. Никаких наград у него, естественно, не было. Просто нацепил орденские планки. С таким же успехом мог нацепить не один орден Ленина, а два или даже три. Не четыре ордена Красного Знамени, а, допустим, шесть. Но ограничился малым. Скромный. Ладно, о Скубаке даже вспоминать не хочется. Просто речь зашла о габаритах и фигурах студентов нашего курса.
Алексей Гурин ростом пониже Скубака, зато шире и массивнее. И наград у него никаких не замечали. На первом да, пожалуй, еще на втором курсе студенты-фронтовики, имевшие награды, носили их не только во время экзаменационных сессий, дабы впечатлить или умилостивить профессоров. Восемьдесят четыре студента с наградами таким образом как бы объясняли пришедшим в институт со школьной скамьи и гораздо лучше подготовленным мальчикам, чем они занимались, пока те по малолетству сидели за партами.
У Алексея Гурина не было наград, хотя никто не сомневался в том, что богатырского сложения дядька прошел войну. Но в каком качестве? Неужели в таком же, как Скубак? Гимнастерка, брюки и сапоги у него ничем не отличались от наших. Все мы, увы, не щеголяли. Но когда похолодало, Гурин появился в роскошном пальто из коричневой кожи. Пальто явно трофейное. Может быть, именно поэтому кто-то предположил, что Алексей служил в трофейной команде. Кстати, я и сейчас не знаю, были ли такие подразделения в Красной Армии. Кличка «Трофейная команда» прочно пристала к Гурину. Проносил он ее года полтора, до того дня...
Однажды после занятий я встретил Алексея на площади. Было скользко и холодно. Я продрог еще в библиотеке. Здесь январский ветер продувал не только мою шинельку, но и всего меня до мозга костей.
Алексей предложил зайти с ним в забегаловку. Я намекнул на мою финансовую несостоятельность.
— Какие разговоры! Я угощаю! — по-царски сказал Алексей.
Угощение состояло из стакана водки и соленого огурца на закуску. На большее у него не хватило денег.
Мы еще не были приучены к тому, что полный стакан не выдувается в один присест. Зато каждый неторопливо жевал свой огурец, растягивая удовольствие. Мы признались друг другу, что сжевали бы еще что-нибудь, более существенное. Но, увы, пайковые пятьсот граммов глиноподобного хлеба получим только завтра. Оставалось довольствоваться выпитым. Все-таки углеводы в жидком виде — по двести граммов на брата. Мне этого, конечно, было маловато. Что уж говорить об Алексее с его габаритами. Я расстегнул шинель. В забегаловке было тепло. Алексей долго разгонялся, прежде чем начать разговор, ради которого разорился на водку. Уже на второй или третьей минуте монолога я понял, почему разгон был таким долгим и мучительным.
Это была исповедь. Страшная. К такой теме в ту пору не прикасались. Там, на продуваемой колючим ветром площади, да и здесь, в теплой забегаловке. Стоял январь 1948 года. Людям, которые еще помнят это время, ничего объяснять не надо. А молодым все равно не понять. В самых талантливых описаниях той поры можно найти только слабые отзвуки кошмара, в котором мы существовали. Самое невероятное, что погруженный в немыслимую глубину этого кошмара, придавленный невыносимой идеологической и репрессивной глыбой, я, ортодоксальный коммунист, старался найти оправдание родной партии, правительству и лично товарищу Сталину.
Начиная с июльских боев 1941 года и до последнего ранения я точно знал, что живым меня в плен не возьмут. Мое отношение к бывшим в плену не отличалось от официального. В плен, как мне внушали, сдавались только изменники Родины. Правда, осенью 1944 года в моем мировоззрении появилась маленькая трещинка. Вместо мотострелков бригады к нам на танки посадили десантников из штрафного батальона — бывших офицеров, освобожденных из плена. Как они воевали! Почему-то среди них я не разглядел ни одного изменника Родины. Но идеология была мощнее фактов.
В забегаловке Алексей Гурин с усилием выдавливал из сердца слова. Они оглушили меня. Кажется, я даже не вспомнил своих десантников.
Когда началась война, Алексей работал фельдшером в сельской больнице на Украине. В село вошли немцы. Он не успел и не мог позволить себе эвакуироваться. Совесть не дала ему покинуть беспомощных больных. Кроме него, в больнице остались только санитарки.
Алексей не сгущал красок, рассказывая о черных днях немецкой оккупации. К страшным будням работы в больнице прибавилась еще одна обязанность. Немцы начали мобилизацию местных жителей на работу в Германию. Фельдшер Гурин стал выдавать фиктивные справки людям, якобы страдавшим туберкулезом и другими хроническими заболеваниями. Несколько месяцев его деятельность оставалась незамеченной. Даже, кажется, не вызывала подозрений. Может быть, все и обошлось бы. Но законопослушный односельчанин донес на него немцам. К счастью, другой односельчанин, бывший пациент, успел примчаться и предупредить Алексея, что его идут арестовывать.
Гурин сбежал и стал пробираться на восток, надеясь добраться до фронта.
Опубликовано достаточное количество рассказов о том, как люди пробирались на восток. Но в январе сорок восьмого на эту тему еще не говорили. К счастью для Леши, я очень четко представлял себе описываемую им картину. У меня был свой опыт выхода из окружения.
Добраться до фронта Гурину не удалось, но ему повезло — он начал работать фельдшером в большом селе Сумской области. Вскоре узнал, что невдалеке располагаются партизаны. С огромным трудом связался с ними. Алексей объяснил, что может быть не только фельдшером — он владеет оружием. Постарается быть бойцом не хуже других. Его поблагодарили и велели оставаться на месте. Медиками отряд обеспечен. Бойцов хватает. А вот его помощь может оказаться бесценной, если он будет снабжать отряд лекарствами. Это было вовсе не просто. Предельная осторожность не спасла, но снова его выдали свои же, украинцы.
Здесь Алеша прервал рассказ и долго катал по столу граненый стакан.
— Знаешь, выяснилось, что я умею терпеть боль. Но это выяснилось позже. А тогда я очень хотел умереть.
Череда тюрем и лагерей. Через некоторое время Гурин попал в Бухенвальд. Я уже кое-что слышал о концентрационных лагерях, о лагерях уничтожения. Видел Девятый форт в Каунасе в тот день, когда мы ворвались туда. Леша почти не говорил о Бухенвальде. Упомянул только, что он возглавил там сопротивление.
Спустя пятнадцать лет я узнал: в изданных в Австрии, Бельгии, Западной Германии, Италии, Нидерландах и Франции книгах бывшие узники Бухенвальда с единодушным восхищением описывали героизм, ум и удивительные командирские качества Алексея Гурина. В Советском Союзе таких книг не издавали. А в забегаловке Алеша и словом не обмолвился о своем бытье в концлагере.
— Понимаешь, — сказал он, — то, что ко мне приклеили прозвище «Трофейная команда», — пустячок в сравнении с пятью мучительными годами моей жизни. Год после войны я должен был доказывать, что я не верблюд. Мне просто необходимо высказать кому-нибудь, кто я есть. Самостоятельно. Не на допросе. Выбрал тебя, с твоими ранениями и иконостасом. Ты коммунист. Но мне почему-то кажется, что ты меня не заложишь. Разумеется, никто не должен знать о нашей беседе. Эх, жаль, не можем глотнуть еще немного.
На следующий день в большой аудитории теоретического корпуса во время перерыва между двумя часами лекции, чтобы хоть немного согреться, мы играли в «жука». Один стоит, заложив руку за шею, вторую — за спину. Кто-то из ватаги стоящих сзади что есть силы бьет тебя по руке. Ты должен устоять и отгадать, кто из бесстрастно глядящих жлобов, выставивших вперед кулаки с оттопыренным вверх большим пальцем, ударил тебя. Если отгадаешь, ударивший заменяет тебя и игра продолжается.
В этот день Леша не участвовал в игре. Он сидел в первом ряду и писал, не снимая перчаток. Один из студентов произнес:
— Что-то Трофейная команда сегодня откололась.
Избиваемый в это время, я повернулся к однокурсникам:
— Слушайте меня внимательно. Леша Гурин — герой, в сравнении с которым все мы поцы. Если кто-нибудь когда-нибудь произнесет «Трофейная команда», он будет иметь дело со мной.
Ребята удивленно замолчали. Всем был известен мой нрав и вес моей палки. Забавно, что никто ни о чем не спросил и не стал добиваться подробностей.
На выпускном вечере мы с Лешей молча чокнулись. Потом это стало традицией, повторявшейся каждые пять лет на встречах нашего выпуска.
После окончания института Алексея Гурина направили врачом в Винницкую область. До меня доходили слухи о замечательном хирурге, а главное — о добром и душевном докторе Гурине.
В начале шестидесятых годов Леша перебрался в Киев. В первый же день он пришел ко мне. Сначала мы молча чокнулись. Но прежде чем выпить, Алексей нарушил традицию и произнес тост:
— За тебя, за ямку, в которую я, как брадобрей царя Мидаса, смог выговорить свою тайну. За то, что ты, коммунист, поверил не официальным установкам, а мне.
В 1965 году, к двадцатилетию со дня Победы, Алексей Гурин был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Он стал восемьдесят пятым награжденным на нашем курсе.
Мы часто встречались. Алексей оперировал в нашей операционной, когда закрылась на ремонт больница, в которой он работал. Мы стояли за одним операционным столом, я мог убедиться в том, какой он великолепный хирург. Мощный кубарь с огромными лапищами, он оперировал деликатно и щадяще — так же, как относился к людям.
В 1977 году наша семья подала документы на выезд в Израиль. Мы сразу же стали неприкасаемыми. От нас отвернулись многие знакомые. Мой однокурсник, бывший земляк, приехав в Киев, позвонил из телефона-автомата, и первой его фразой было: «Если ты узнал мой голос, не называй моего имени», а дальше — добрые пожелания человеку, отбывающему в другую галактику. Леша не боялся общаться со мной, с зачумленным. Накануне нашего отъезда мы обнялись.
— Ты знаешь, — сказал он, — чего я тебе желаю?
Я знал.
Спустя несколько лет в Израиль пришла печальная весть о смерти Алексея Гурина, честного сострадавшего фельдшера, героя сопротивления, отличного студента и настоящего врача. Земля обеднела, потеряв еще одного благородного Человека. Благословенна память его.
2009 г.